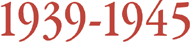Кромешная тьма плотным кольцом легла вокруг катера-охотника. Лунный свет пытается пробиться в редкие разрывы туч, сплошь застилающих ночное небо, но и он не в силах разогнать угрюмую черноту. Мрачно зимнее море. Оно тяжело вздымает свои остывающие волны цвета расплавленного свинца. Жгучий нордовый ветер с усилием срывает редкие всплески с зализанных, полого катящихся валов. На них, чуть в стороне от катера, раскачивается темная глыба. Это буксир № 22. Он тянет за собой баржу. Ее мне – рулевому – даже с высоты мостика не видно. Тьма скрывает все.
Вместе с буксиром и баржей уже который час мы идем в темноту, в неизвестность. Курс – чистый норд. Скорость – шесть узлов.
- Нам, как всегда, «везет», – ворчит над моим ухом сигнальщик Андрей Михайленко. – А почему?
Я не отвечаю Андрею, да и он не ожидает моего ответа: ему просто надо выговориться. В ходовых вахтах мы с ним неразлучны. Раз избрав одной из точек опоры нактоуз главного компаса, Андрей теперь всегда стоит за моим левым плечом. И почти постоянно, когда позволяет погода и обстановка, чуть слышно напевает или просто мурлыкает мотивы полюбившихся ему легких песенок, великое множество которых собрала его великолепная память. Лирическое настроение, видимо, не только не мешает, но и помогает сигнальщику внимательно прощупывать зорким глазом все вокруг. А мне он ни чуточки не мешает – слушать его мурлыканье даже приятно, когда же оно чуточку меняется по тональности, я знаю: он что-то заметил. Но сегодня Андрей, видно, «встал с левой ноги» – ворчит и ворчит, как старик:
- В ночь под праздник, на седьмое... Болтались в противолодочном, как... в проруби! И пятого декабря тоже... Лед на себя собирали... И на Новый год погода была такая же дрянь.
- Возможно, свое недовольство он высказывает специально, чтоб услышал командир катера старший лейтенант Михаил Миронов. Но тот, укрыв лицо за козырьком рубки, внешне никак не реагирует на излияния старшего сигнальщика. Я же слушаю товарища вполуха. От его незлобливого ворчанья мне даже теплей. Не обращая внимания на мое и командира молчание, Андрей, как заведенный, продолжает свое:
- Весь январь болтаемся. А что толку, Одна подлодка попалась, да и ту упустили... Засветить бы между глаз раззяве-радистику! Иллюминацию устроил! Ищи теперь... А сегодня? Только пришли – и опять в море! Даже заправиться не успели. Удовольствие ниже среднего, как будто не было других...
- А что? Море как море! – услышав ворчанье Андрея, весело откликается поднявшийся на мостик помощник командира, он же – штурман, лейтенант Дмитрий Колотий. Заглянув в чуть светящееся синим окно колпака главного компаса, добавляет:
- Ветерок – в норме. И водичка ведет себя благопристойно. Вот минут через десять-двенадцать подмигнет нам «Цыпочка» – и рейс окончен!
Лейтенант оказался прав. Точно через 12 минут слева по корме мигнул узкий луч «Цыпочки» – затемненного маяка на мысе Цып-Наволок. Его на очень короткое время включили специально для нас, чтобы мы могли сориентироваться в этой чернейшей темени. По команде штурмана Андрей передает ратьером на буксир короткий сигнал поворота и мы уверенно ведем его в невидимую бухту, хотя маяк уже прекратил свою работу. Теперь и темнота кажется не такой уж мрачной. Там, на берегу, о нас предупреждены, нас ждут.
Вслед за буксиром, носом на волну, становимся на якорь дожидаться светлого времени. С коротким подобием рассвета (где-то около 12 часов дня) должна начаться выгрузка содержимого баржи – тракторов-тягачей, тяжелых орудий, боеприпасов и остального, очень необходимого защитникам полуострова Рыбачий. Полярная ночь – наиболее безопасное время для переброски сюда всех грузов на вместительных транспортных судах. Летом таким перевозкам очень мешала вражеская авиация. Как гнус-кровосос, набрасывались разные «мессеры», «юнкерсы», «фоккеры» на любой буксир или мотобот, направлявшиеся к полуострову. Нападавших не останавливало даже сильное огневое прикрытие береговых зенитных батарей и эскорта катеров-охотников. В бухтах же самого Рыбачьего негде было укрыться не то что большим транспортам, а даже такому небольшому кораблю, как наш катер.
В тусклых сумерках коротких минут зарождавшегося дня, последнего в январе, низкий, голый берег выглядит безжизненным и неприветливым. Гонимые холодным нордовым ветром, рваные грязно-коричневые тучи, чуть ли не впритирку к земле, быстро проносились над ним. Обычно белопенная полоса прибоя – и та на этом унылом фоне превратилась в тускло-серую. Чем дольше мы разглядывали лежащий перед нашими глазами край земли, чуть приподнявшийся над океанским простором, тем тоскливей становилось на душе.
- Вот оно – то место, куда наверняка Макар телят не гонял, – ворчит, зябко передернув плечами, тепло одетый рослый акустик Василий Прошин.
- Так это же Рыбачий! Считай – почти рай. Только заполярный, – шутя возражаю ему. – Тут хоть люди есть – почти ангелы. Только в шинелях. А вот, погоди, еще и в преисподнюю залезем. Мы же все можем...
- А к черту на рога не хочешь?
- Так мы с тобой, тезка, уже побывали там. Или забыл, как таскали мины в Варангер-фиорд?
- А и верно! В волчьей пасти побывали – и ничего, обошлось, – соглашается акустик.
Он вспоминает, как впечатлительный моторист Виктор Копылов и, глядя на него, кое-кто еще, как перед явной гибелью, даже в чистое белье тогда обряжались. Прошин усмехается и делает вывод:
- Теперь – не будут. Убедились, что для катерников нет ничего невозможного, да и всегда надо надеяться на лучшее...
Все наши попытки пришвартоваться к остаткам свай совершенно разбитого авиабомбами бревенчатого причала оканчиваются неудачей. Волны свободно катятся по открытой с норда бухте, рвут швартовы и тащат за собой катер. Приходится все время подрабатывать моторами, чтобы удержаться на месте, не наваливаться на какой-либо обломок сваи, оставшийся под водой. К тому же торчащие из остатков расщепленных бревен болты и скобы каждую секунду могут пропороть тонкий корпус катера. Подводить сюда баржу, конечно, не имело смысла. С этим соглашаются и армейцы, вскоре прибывшие на разгрузку. После недолгого, но очень шумного разговора с их командирами выясняется, что никаких средств, которые бы обеспечили безопасную выгрузку тяжеловесов – пушек, тракторов – у них под руками нет.
Так ничего толком и не добившись, мы отходим под борт к стоящему на якоре буксиру № 22. Опытный и бывалый его капитан, трезво рассудив, не решается рисковать ни баржей, ни ее ценным грузом. После некоторого раздумья и советов с лоцией и картами он предлагает старшему лейтенанту Миронову дождаться наивысшей точки прилива.
- Тогда отдадим с баржонки кормовой якорь. Затем, понемногу потравляя буксирный конец, развернем ее лагом к волне, благо, она не такая уж крутая, и аккуратненько посадим баржу на осушку. Берег в той стороне пологий, грунт – песочек, а посудина плоскодонная... Да и ветер стихает. С отливом же разгрузить ее будет легче легкого. Да и обратно сдернуть баржу – плевое дело. И все у нас будет ладненько, командир!
Морякам известно, что приливы и отливы морских вод повторяются дважды в сутки. Разница в уровне между полной и малой водой достигает в этих местах побережья Баренцева моря более трех метров. И понятно, что предложение капитана буксира признается очень разумным. Оно нравится своей деловитой простотой. Командир катера, даже не раздумывая, как он поступал обычно, сразу говорит капитану, что он согласен, а вернувшись с буксира на катер, чешет пальцем за ухом и, тяжело вздохнув, огорченно добавляет, надеясь на мое и сигнальщика Михайленко понимание обстановки:
- Черт бы побрал этот «этикет»! Ничего не поделаешь: придется доложить в штаб. Пусть дают «добро».
Пользоваться рацией в море для передач разрешается командиру лишь в исключительных случаях. Строжайшее исполнение данного приказа обеспечивает скрытность действий и перемещения кораблей. И потому начались долгие, до умопомрачнения, переговоры шифром по семафору через береговой пост СниС и далее по проводам.
А день, еле начавшись, уже переходит в короткий вечер, и снова на море и землю быстро надвигается темнота ночи. Идут последние сутки января 1942 года. Сигнальщики, сменяя друг друга, устали мигать ратьерами, а из Полярного, от командования, как назло, не поступает ничего вразумительного, кроме одного: ждать, пока утихнет волнение в бухте. Это вызывает бурную реакцию в настроении тех, кто стоит на постах по готовности «один». Помощнику командира, лейтенанту Дмитрию Колотию, стоящему на мостике, приходится выслушивать всякое.
- А что они там думают? Хорошо из кабинета советовать!
- Им лучше знать, что надо делать, – пытается отговориться лейтенант, ясно понимая бесполезность затеянного разговора, но парни продолжают свое.
- Сколько стоят можно? Здесь нас завтра в два счета «мессера» защучат, или та подлодка, за которой гонялись...
- А что? Фуганет в боезапас – и ищи-свищи, где баржа, где буксир, а где мы, грешные!
- Леша! А ты формуляр своей стройной фигуры оставь. Кто-нибудь найдет – соберет!
Найдя объект для шуток, краснофлотцы вместе с Колотием смеются до того заразительно, что добродушный радист Алексей Угловский и не думает обижаться – хохочет вместе со всеми.
- Хлопцы! А помните «Териберку»?
- Возглас минера Пшеничного всплеском ледяной волны обдает нас. Разом обрывается смех.
...На первом месяце войны, 18 июля, ясным солнечным днем, из Мурманска в губу Западная Лица, в районе которой шли ожесточенные бои, ушла земшаланда «Териберка». В ее трюмах, обычно используемых для вывозки грунта, поднятого со дна у причалов порта, находилось два десятка полевых орудий. Артиллерия на колесах в те дни была жизненно необходима нашей пехоте, с большим рудом и немалыми жертвами отбивавшей напористые атаки горных егерей, рвавшихся к Мурманску. Немцы шаланду заметили, но на переходе морем не трогали – дали возможность добраться до места назначения. И пока у армейцев шел торг, кто, где и когда будет выгружать пушки, налетели пикирующие «юнкерсы» и отправили шаланду вместе с драгоценным грузом на дно губы. После этого почти две недели доставали флотские водолазы злосчастные пушки. Хорошо еще, что на орудиях оставалась арсенальная смазка. Да и место потопления шаланды оказалось не столь глубоким, и к тому же скрытым от глаз немецких наблюдателей за высокой скалой в губе Лопаткиной. Стараниями водолазов пехота все же полностью получила «подводную» артиллерию и неплохо опробовала ее на горных егерях и эсэсовцах, отражая их последнее в том году сентябрьское наступление.
Такое же могло случиться и сейчас с нашей подопечной баржей, только с одной лишь разницей, что на сей раз потеря была бы в несколько раз ощутимее и для обороны Рыбачьего, и для всего флота. В дальнобойных пушках большого калибра и тракторах-тягачах здесь очень и очень нуждались.
- Ну, мы-то – не дураки! – раздаются обиженные голоса.
- А пора бы за это время и другим умными стать, – по привычке бурчит боцман Анатолий Сафронов, явно намекая на молчание Полярного. – Хорошо, что погода паршивая, а то бы разведчик давно навел бы сюда свору пикировщиков. Расхлебывай тогда...
- Да... Будет каша...
- Что? Уже ужин? – обрадовано восклицает поднимавшийся на палубу моторист Виктор Копылов.
- Какой ужин?! Ты что – тавота объелся? – вместе с боцманом обрушиваются все на моториста, растерявшегося от такого напора. – Продукты еще вчера кончились, и вода на исходе...
- А на буксире ее тоже в обрез!
- Вот тебе и на!.. – удрученно протягивает Копылов и, забыв, зачем он поднимался наверх, спускается в моторный отсек.
Появление на палубе командира кладет конец всем разговорам. Старший лейтенант поднимается на мостик и, делая вид, что не слышал ничего (мы это поняли по многозначительному гмыканию), приказывает перейти на готовность «два», вахтенным – усилить наблюдение за морем, а всем остальным – идти отдыхать.
Идем, но в кубриках – собачий холод. За неделю непрерывного пребывания в море заиндевело и промерзло все. И мне поневоле вспоминается зима тридцать девятого – сорокового года, финская кампания. Катера находились в боевой готовности далеко от базы, а морозец в ту зиму свирепствовал вовсю. Нам же обогреваться было нечем, поэтому в кубриках спали не раздеваясь, прямо в полушубках. Бывало, идешь поднимать смену вахте, глядь, а у тех полушубки примерзли к обшивке борта, да так, что не сразу отдерешь!
- В ледяное царство спать? Не-а, не хочу! – ежится старший комендор Иван Свистунов. – Тут даже белый медведь не выдержит, сбежит!
Соглашаемся с ним и всей гурьбой отправляемся в носовой моторный отсек. После студеного воздуха и ночной темноты здесь – настоящий рай. Пышет жаром от прогретых моторов. Несильный свет электроламп кажется ослепительным и заставляет долго щуриться.
- Места занимать согласно штатному расписанию! – шутливо распоряжается хозяин носового отсека старший моторист Иван Бородулин, оторвавшись от вузовского учебника механика. На флот он попал со студенческой скамьи Казанского авиационного института. Скромный, вдумчивый челябинский парень мечтал стать инженером-механиком. От мечты своей, даже в трудной обстановке войны, не хотел отказываться. Когда у него выдается свободная минута, моего друга можно видеть сидящим за учебником. Нужной ему литературы в библиотеке плавбазы имеется предостаточно.
Ребята благодарят радушного моториста, сбрасывают полушубки, капковые бушлаты и живописным табором располагаются повсюду, где только находят свободное место. Скинуты застывшие сапоги и валенки; а портянки и носки, как флаги расцвечивания, развешиваются на просушку.
Андрей и я взбираемся на персональные «места первого класса» – блоки моторов. Они будто специально созданы для нас – наиболее мерзнущих и промокающих. Жмурясь от теплого блаженства, ложимся этаким клевантом [1], обняв приборный щиток и согнув ноги в извивах труб и проводки, металлические округлости которых нам служат матрацем, кулак или ладонь – пуховой подушкой. Поворачиваться нельзя: как лег на один бок, так и лежи, не задевая тросов и приборов. Но все это такие пустяки, такая мелочь, на которые я не обращаю внимания. Главное – тепло, исходящее от моторов, и не менее теплое внимание друзей-мотористов.
- Цыганский табор, а не машинное отделение! – добродушно усмехается строгий на первый взгляд старшина мотористов Сергей Митягов, заглянувший в отсек. – Вот бы Рихтер увидел...
Андрей Рихтер – это инженер-капитан 3 ранга, дивизионный механик. Он прямо-таки до фанатизма обожал ослепительную чистоту и строжайший порядок в подведомственной ему пятой боевой части всех кораблей дивизиона. Строгий, требовательный, но справедливый, Рихтер терпеть не мог ничего лишнего в машинных отсеках, тем более – развешанных «тряпок». За сегодняшнее не поздоровилось бы и старшине мотористов, и Ивану Бородулину, и всем остальным из БЧ-5. Разумеется, больше всего попало бы командиру катера. Но Рихтер далеко, а обстановка заставляет делать так, как будет лучше для людей, для успеха операции.
А сейчас порядком подостывшие парни, разморенные теплом, моментально провалились в чуткий сон. Каждый на «своем», однажды облюбованном месте. Прямо на линолеуме палубы распластался длинный, как поповская ряса, с кавалерийским разрезом позади, тулуп нашего «запорижца» – минера Петра Пшеничного. Сам он притиснулся к мотору снизу: видны лишь его длинные, тонкие ноги. В изгибе пухлых выхлопных труб, как в кресле с высокой спинкой, устроился полусидя самый рослый из нас Вася Прошин. За мотором, у борта, рядышком две головы: с волосами цвета льна – Леши Угловского и коротко стриженная, русая – комендора Ивана Свистунова. Леша даже во сне приставил ладонь лодочкой к уху, как бы придерживая кругляш телефона. Сон неумолим, и заснувшие своей необычностью похожи на сраженных на поле боя.
Смутно помнится, что, кажется, разок прогревали моторы. А под их мощный, привычный гул обычно спалось еще лучше, крепче. И вдруг рывком поднимаюсь от крика:
- Эй, ты!.. Оглох, что ли?
Спросонья мелькает мысль, что я прозевал сигнал тревоги. Но тут же сознание подсказывает, что ревуны и звонки молчали и никакой тревоги не объявлялось. К тому же и мотористы Бородулин и Копылов не подходят к моторам и не беспокоят отдыхающих. Так и не проснувшись окончательно, определяю: относится не ко мне, и потому снова опускаюсь на горячий блок. Но тут же опять звучит резкое:
- Оглох, я спрашиваю? Сейчас же давай питание!
Сон все равно уже перебит, и я нехотя открываю глаза. В квадрате лаза в кормовой машинный отсек виден недвижно сидящий худощавый электрик Коля Скатов, а перед ним дергается в крике Борис Киселев, радист-практикант. Электрик пунктуален, когда дело касается его прямых обязанностей. Он отлично знает их и ни за что не нарушит приказа командира катера, и потому Скатов невозмутимо произносит:
– Питания на рацию не дам. Здесь, в море, – запрещено. Не дам!
Его внешнее спокойствие бесит радиста. Багровея от беспомощной злости, Киселев потрясает белым кулачком перед лицом электрика, брызжа слюной.
- Я тебе! Я... За срыв передачи! Я покажу!!!
- А ну, хватит авралить! – раздается властный окрик Андрея. – Не мешай людям отдыхать! Ишь, разорался!
И только сейчас, оглядевшись, замечаю, что в отсеке уже никто не спит. Чуть приподняв головы, ребята с ленивым любопытством следят за происходящим.
- А твое какое дело? – скривив тонкие губы, огрызается Киселев.
- Что-о-о? – удивленно протягивает не ожидавший такого ответа Михайленко, поднимаясь со своего металлического ложа и уже обращаясь ко мне с искренним возмущением:
- Слышь, Вася! Он еще вякает: какое мне дело! А? Ты понял?
- Какое такое дело? – доносится из кормового отсека сердитый голос старшины мотористов Сергея Митягова. – Кому?
- Кисель питание на рацию требует, – поясняет электрик.
- Ну-ка, пропусти, – старшина легко отстраняет электрика и, втиснувшись в лаз своей грузной фигурой, не спеша обводит глазами всех нас, и уж потом, прищурив глаза, обращается к радисту:
- Ты кому тут приказываешь?
- Вам! – высокомерно выкрикивает Киселев прямо в лицо старшине Митягову. – И не тыкайте мне! Ваше дело телячье: выполняй, что требуют!
Все так поражены дичайшей выходкой радиста, что обычно находчивые, теряются. В отсеке воцаряется напряженная, как перед надвигающимся шквалом, ломкая тишина. От ее тяжести Киселев, не решаясь далее говорить, даже прикусывает нижнюю губу.
Первым приходит в себя Вася Прошин. Он вскакивает со своего «трона» и, чтобы не упасть от чересчур резкого движения, хватается за задрайку входного люка. Киселев в испуге шарахается в сторону от взмаха руки атлетически сложенного акустика. Задыхаясь от возмущения, Прошин вскрикивает:
– Да как ты смеешь! Салага!
Его перебивает торопливо одевающийся командир отделения Связистов Угловский:
- За самовольное оставление боевого поста отстраняю от несения радиовахты!
И, не глядя на открывшего было рот Киселева, старшина Угловский поспешно покидает моторный отсек, чтобы самому продолжить в рубке вахту на радиоприем. Одновременно с лязгом металла задраиваемого люка в отсеке разражается шквал возмущения. Гул голосов наполняет тесное помещение. Говорят все разом, почти не слушая друг друга. Радиста уже никто не называет ни по имени, ни по фамилии. Гневное, презрительное «ты» бросают ему в лицо. И как-то само собой, в порыве возбуждения, выплескивается через край терпения все то, что у каждого помимо его воли понемногу накапливалось в памяти с того ноябрьского дня, когда настороженно тихий, старавшийся быть незаметным, радист-практикант сошел с борта плавбазы на сверкавшую чистотой палубу нашего катера, и чем больше вспоминается то мелкое, грязненькое, которым он вольно или невольно пытался испачкать нашу доверчивую моряцкую семью, тем злей становятся ребята. Ведь то, что случилось в эти минуты на их глазах, выходит из ряда вон. Самовольное оставление боевого пост, неподчинение приказу командира катера и оскорбительные пререкания со старшим по званию – немыслимые для каждого из нашего экипажа проступки – никак не укладывались в понятие простого нарушения воинской дисциплины. Тут проявилось что-то большее. Что-то оказалось неладно – видно, мы не все успели понять и распознать в этом обычно тихом радисте. И потому сейчас придирчиво разглядываем вдруг замолкнувшего практиканта, как будто впервые видя его.
В самом деле, что мы знали о Киселеве? – с удивлением и упреком самому себе, думаю я. – А почти ничего. Так, общие, отрывочные и очень скудные анкетные данные: родился, учился, вступил в комсомол, призван на военную службу... Из повседневного общения с ним – эгоист первостатейный. Тут, пожалуй, отец с матерью виноваты. И еще – жаден до невозможности. Ну, а кто из нас, грешных, без недостатков? Пожалуй, нет таких...
Странно, но я впервые разглядываю его в упор. Лицо обычное, каких тысячи, ничем не выделяющееся, как говорят – неприметное. О таком, если и спросят, то и сказать нечего. А услужливая память подсказывает, что, как ни странно, никто из нас дружбы с Киселевым не заводил, да и он тоже не пытался сблизиться ни с кем. Залезет, как крот в свою нору, в радиотрубку и торчит там все время. Правда, по признанию самого старшины Угловского, Киселев быстро и неплохо разобрался в аппаратуре, освоил специальность на практике и вот-вот должен был сдать экзамен на штатного специалиста.
Что ж, у каждого свой характер, свои привычки, свои стремления...
- Нет, не нравишься ты мне, – наконец тяжело выдавливает из себя Прошин, по-прежнему держа руку на задрайке люка. – Нет в тебе того простого, что есть у настоящих товарищей, с которыми делишь все, вплоть дол последней щепотки махорки. А ты? Нет! Ты – не наш. Не наш... Ты – чистоплюй. Снаружи. И какой-то темный – внутри, двуликий к тому же. Брезгуешь ты нами, а потом за нашей спиной прячешься. Да еще глядишь...
Досказать акустику не дает Пшеничный, перебивая:
- Да що там! Цей куркуль готов усе что попало папиросной бумажкой протирать. Даже нас, а не тильки посуду.
Минер напомнил нам, казалось, о пустяковом. Осенью, вместо папирос «Казбек» и сменившего их «Беломора», курящим стали выдавать моршанскую махорку, к тому же по сокращенной норме, а к ней – книжечками – тонкую курительную бумажку. Курева не стало хватать. Сказались тревоги, долгие скитания в море, переживания и все такое. Некурящие, а их было явное меньшинство, отказывались от замены махорки шоколадом и отдавали положенное им табачное довольствие заядлым курильщикам. Все делалось, как полагалось в примерной семье, какой считали наш экипаж на дивизионе.
И вдруг в начале ноября появился «куркуль». Так окрестили курящие нового радиста Киселева. Он не курил, но сразу же забрал полагавшийся ему месячный табачный паек и спрятал на самый низ своего рундука. Видевшим это поучительно заметил: «От табака моль не заведется!» Его соседей по кубрику такое прямо-таки поразило. Но после обмена мнениями в «курительном салоне» – среди стеллажей глубинных бомб – все сошлись в одном: пройдет время, и как прибрежную гальку обкатывает волна, так обкатается, отшлифуется среди катерников новый радист и будет жить общими интересами.
Когда же увидели, как он стал протирать дефицитно папиросной бумажкой и без того тщательно вымытые ложку и миску, единодушно решили, что это – «позорное пятно», бросавшее тень на всю команду. Даже дивизионный медик – военврач третьего ранка Иван Филиппович Плюхин, проверяя качество приготовленной пищи, никогда не позволял себе такого. Помнится, однажды боцман Анатолий Сафронов не вытерпел и попытался воздействовать убеждением на возможно сохранившиеся остатки совести молодого радиста.
– Отдал бы бумагу курящим... У нас заразных нет. Да и от посуды насморк не поймаешь: климат не тот. В общем, брось, не играй на нервах!
Радист пропустил мимо ушей добрый совет и упрямо продолжал свое. Ел он всегда неторопливо, долго, не по-военному. Усиленно работал челюстями, тщательно пережевывал любую пищу. Как-то раз поторопившему его бачковому многозначительно заметил:
– Так рекомендует питаться известный всему миру немецкий ученый Мюллер. По его системе всякую пищу следует пережевывать не менее тридцати шести раз. Только тогда будешь здоровый, дольше проживешь.
– Корова так долго не жует, а сто лет не живет! – под общий смех «срезал» тогда молодого радиста Вася Прошин. Затем посоветовал, даже не улыбнувшись от переполнявшего его великого презрения к чистоплюйству:
– Ну, а ты – продолжай. Может, еще и замычишь!
Киселев не оценил тогда всей глубины и мудрости мысли акустика. Да еще и обиделся на него, на что Вася не обратил никакого внимания.
В кризисный момент долгого отрыва от базы боцман со всеобщего одобрения конфисковал из рундука радиста и махорку, и курительную бумагу. Киселев в тот же день заявил помощнику командира о краже накопленного им. Лейтенант Колотий решил обратить в шутку «операцию» боцмана и спросил жалобщика, не ожидавшего подвоха:
– Киселев! Вы верите в Бога?
Тот утвердительно кивнул головой. А лейтенант как-то особенно внимательно посмотрел на радиста и с многозначительным нажимом сказал, как бы ставя точку в коротком разговоре:
– Так вот. Бог велел делиться с ближним...
Вспомнилось и другое.
Погрузка снарядов, глубинных бомб, перекачка горючего, сколка льда с надстроек и палубы после походов – на все эти тяжелые авральные работы у нас, как правило, выходили все, в том числе акустики и радист Угловский, хотя от этого они были официально освобождены.
– А чем мы хуже всех? – обижались они. – Мы же не голубых кровей!
Только Киселев держался о себе другого мнения. Всегда находил какие-то причины, чтобы «сачкануть», уклониться от любой работы, нужной для всех – даже от чистки картофеля для камбуза плавбазы. И все сходило ему с рук – до поры. А сегодня, видно, пришло время расчета.
Когда на мелководье рвется глубинная бомба, на поверхность поднимается вспученная, бурлящая вода, ржаво-грязная от взрывчатки, донного ила и всего, что было погребено в нем. Так и в этот последний январский вечер взрыв матросского гнева выбросил на поверхность, обнажил мелкую и грязную киселевскую душонку, начиненную невесть откуда взявшимся барством, нечестностью, пренебрежением ко всем окружающим. Прав Прошин: Киселев не стал равноправным членом нашей небольшой семьи моряков, и потому кипит от возмущения обычно добродушный украинец Петро Пшеничный:
– Хиба ж ему интересно з нами? Он дюже образованным себя считает. А сам кажну хвылину, даже во мне, неметчину зубрит: их бина, дубина... Их гебе майне штелле. Ахтунг-махтунг!..
– Подожди молоть! – одергивает минера Сергей Митягов.
Полное лицо старшины багровеет. Он еще сдерживает гнев. Но чувствуется, как напряглись мускулы его грузного, сильного тела. Киселев, почуяв опасность, не поднимая глаз, прижимается к переборке.
– Кто из вас не знает, что в море на передатчике можно работать лишь по приказу командира? Или забыли? А? – обводит нас глазами старшина мотористов.
– Так это же все знают! – отмахивается комендор Свистунов.
– Нет! Вот этот, – движением головы Митягов показывает на радиста, - никак не хочет нать. А ну, вспомните ночь с 15 на 16 ноября в Ура-губе...
Ту ночь нельзя было забыть. Вовсю крутила суматошная пурга. По тылам немцев стрелял эсминец «Гремящий», а мы несли противолодочную оборону его стоянки. Существовала реальная опасность появления подводных лодок врага, а видимость в море была нулевая. Мы надеялись только на слух Прошина и рогульки «Посейдона» – «изобретения начала каменного века», как отзывались сами акустики и все катерники о примитивном акустическом приборе, чем-то похожим на докторский стетоскоп, которым был вооружен наш кораблик.
Чтобы дать хотя бы небольшой отдых промерзшему и уставшему без смены кустику, старшина Угловский вышел из радиорубки и ненадолго подменил его. Тем временем Киселев, оставшись в рубке один, стал условными сигналами звонка требовать от мотористов подачи электроэнергии для пуска передатчика. Но как только застучал электродвижок, с мостика последовал приказ: «Стоп! Старшину мотористов – наверх!»
Пока Митягов докладывал командиру, кто потребовал запуска движка, Киселев, не зная причин перебоя в подаче энергии, вновь начал трезвон. Угловский тут же оставил «Посейдон» и поспешил в радиорубку, чтобы пресечь нарушение приказа о радиомолчании в боевой операции. Акустическое же прослушивание было сорвано на добрый десяток минут. Будь немецкая подлодка рядом – несдобровать бы эсминцу, надеявшемуся на нас и лишенному возможности маневрирования в узкости губы.
Случившееся завершилось тем, что командир катера устроил разнос старшине Угловскому «за плохую дисциплину в БЧ-4» и категорически потребовал как следует разъяснить новичку-радисту правила несения радиовахты в море военного времени. А Вася Прошин, так и не отдохнув, вновь встал к наушникам «Посейдона».
– Вот с кого надо было тогда еще семь шкур содрать, а не с Угловского! – взмахивает тяжелым кулаком комендор Иван Свистунов и еле-еле сдерживается от великого желания «долбануть» сжавшегося в комок радиста.
– Откуда он такой? Откуда у него наглость взялась? – дождавшись спада волны возмущения, вслух, как бы самого себя, спрашивает Митягов. И хотя старшина мотористов сказал не так уж громко, услышали все. Поняли: вопрос относится к каждому и от каждого требует ответа. Еще кипя внутри от возмущения, примолкают, задумываются над таким требовательным: «Откуда?»
«Ну и задал вопрос Серега! Сразу и не ответишь», – думается мне. У самого Киселева в этот момент бесполезно спрашивать, да и вряд ли дождались бы искреннего ответа.
А радист, видно, чувствует, что переборщил, и потому настораживается, ощетинивается, лихорадочно соображая, как исправить свою оплошность. С каждой секундой ему и нам становится все яснее, что дело принимает очень серьезный, нежелательный для него оборот. Киселев пятится к трапу, трясущейся рукой ища его за спиной. Но на задрайке входного люка – увесистый кулак Прошина, а второй выход – лаз в кормовой отсек – плотно закрывает тяжелая фигура старшины мотористов. Уйти некуда, да и невозможно.
– Отвечай, когда спрашивают! – От сдерживаемого напряжения голос Свистунова звучит необычно звонко.
– Не на суде!.. – огрызнул было Киселев и осекся. Понял, что снова сболтнул не то.
– Суд, говоришь? – жестко переспрашивает его Бородулин, по привычке, когда он что-либо обдумывал, водя горизонтально указательным пальцем по горлу взад и вперед. – Ну, что ж, может, и так. Только все же судить тебя будет весь экипаж, и еще – твоя совесть. Если от нее у тебя еще что-нибудь осталось - в чем я очень сомневаюсь... И тогда от нас пощады не жди!
Движения его указательного пальца поперек горла столь выразительны, что вдруг приобретают страшный для радиста смысл. «Неужели конец? Неужели посмеют? Они и правда все могут... Что же делать?» – судорожно мечется мысль в голове Киселева. С лица его быстро сходит краска возбуждения и неприкрытой злобы. Оно принимает землисто-серый, до противности отталкивающий оттенок.
– Какая гадость! – кривится Иван Свистунов и поворачивается спиной к радисту.
Плечом раздвигая стоящих в проходе между моторами, из дальнего угла отсека к Киселеву молча пробирается Анатолий Сафронов. Взгляд боцмана исподлобья, крепко сжатые кулаки и перекатывающиеся желваки на скулах не предвещают ничего хорошего.
– Ты! Слизняк! – разжав зубы, боцман точно выстреливает в Киселева. – Выходит, что ты гадил нам всюду! А? Скажешь, нет? И у Кильдина вражья лодка скрылась с твоей помощью. Что, не так? Ты что ж, думаешь, мы ничего не поняли, не заметили, не знаем о твоих фокусах?
Мы настораживаемся. А голос Сафронова вдруг переходит на свистящий шепот:
– А что ты искал в каюте командира перед этим выходом? Ну! Думал, никто не увидит, не узнает?
– Стоп! Стоп, боцман! – еле оттягивает его от радиста Бородулин и, отыскав глазами минера, просит: – А ну-ка, Петро, повтори, что он там по-немецки болтал!
– Их бина, ду... – начал было Пшеничный.
– Нет, нет! Другое.
– А-а! Это: их гебе майне штелл...
– Я даю... мое место, – переводит моторист и, что-то соображая, снова начинает потирать подбородок указательным пальцем.
– Какое место? Корабля?.. Где мы стоим? – вырвалась у меня невольная догадка.
– Место катера?! Немцам! Ах, гад!
Сафронов хватает радиста за грудки, легко отрывает от трапа, за который тот судорожно было ухватился, и таким сильным толчком швыряет его на переборку, что Киселев мешком обрушивается на палубу. Отсек снова гремит от голосов, переполненных ненавистью и презрением к предателю.
– Списать эту тварь за борт!
– В мешок его!
– Иуда! Кто купил тебя?
Комендор не удерживается и брезгливо пинает радиста ногой. Скорчившийся на палубе Киселев противно, по-собачьи, скулит.
– Не пачкать руки! – хрипловатый бас помощника командира перекрывает все голоса, и парни, подчиняясь приказу, неохотно, не сразу, но смолкают. В пылу гнева никто и не замечает, как лейтенант Колотий появляется из кормового машинного отсека. Парни, как по команде, поворачивают к нему головы, расступаются.
– Теперь мы будем знать все! И кто купил его, и что он за птица. Вот из нее, – и помощник командира поднимает над головой крошечную записную книжку, размером чуть более спичечного коробка.
Ее не раз мы замечали в руках у радиста. Киселев с ней никогда не расставался. Иногда – что-то тщательно записывал. Думали – стихи. Кто из нас, молодых, когда-то их не писал? Море и лирика, как известно, всегда были неразлучны. И потому этому блокноту, такому крошечному, мы не придавали никакого значения, считая очередной причудой куркуля-радиста.
А он, глядя на блокнот в руке лейтенанта, трясясь от бьющей тело трусливой дрожи, вдруг бормочет:
– Я не хотел... Я не виноват... Не мог. Все скажу. Это они...
Из сбивчивого, путаного признания предателя я кое-как уясняю, что Киселев полгода служил в частях связи. Поверив в силу и непобедимость немцев, быстро продвигавшихся в глубь страны, дезертировал на втором месяце войны. Очень боялся, что убьют. Поймали. Трибунал не успел вынести приговора: на том участке фронта прорвались немцы. Киселеву удалось скрыться. Боясь справедливой кары, сам пошел служить немцам. С группой таких же, как он, трусов – изменников Родины, был привезен в Карелию, в село Шуньга Заонежского района. Там оказалась разведшкола. Учили всему, а потом, одев в красноармейское, парами забросили для диверсий в тыл сражавшимся частям Красной Армии.
Сперва он, по приказу старшего в группе по кличке Дюбель сообщал по рации о прибытии воинских эшелонов на станцию Лоухи. Потом в Беломорске, в ноябре, попали в облаву. Бросив все, с трудом ушли от преследования. На перегоне забрались в воинский эшелон. Оказалось, что в нем везли в Мурманск молодых моряков, выпускников учебного отряда с Соловецких островов. Тут Дюбелю пришло в голову завладеть одеждой и документами доверчивых краснофлотцев. Это ему удалось. Когда в Мурманске колонна молодых моряков в круговерти снегопада двинулась по темным улицам в военный порт, Дюбель убил шедшего позади строя моряка с флажком. Тот оказался радистом. Дюбель решил использовать такую неожиданную удачу. Приказал ему – Николаю – быстро переодеться в форму убитого и запомнить его данные по найденным в кармане документам. Так Николай стал Борисом Киселевым.
Пользуясь темнотой ночи, снегопадом и неразберихой, царившей на продуваемом свежим ветром причале, новоявленный Киселев смешался с весело гомонившей гурьбой согревающихся бегом и борьбой жизнерадостных парней. При посадке на транспорт сопровождающих считали по головам. Перекличек не делали, а именно этого опасался «Киселев». По прибытии в Полярное ему еще раз повезло. Выпускников учебного отряда построили прямо на пирсе и тут же стали распределять по кораблям и частям. В лица не вглядывались. Документы не требовали. Так вместе с большой группой краснофлотцев разных специальностей попал он на дивизион катеров-охотников...
Катерники застыли, пораженные услышанным. Оно не укладывается в нашем сознании, в понятиях чести и долга перед народом, перед присягой. А Киселев... Нет, не Киселев, а подло укрывшийся за честным именем погибшего парня изменник Родины, захлебываясь слюной от торопливости и угодничества, изо всех сил старается уверить в своей невиновности в совершенном им подлом предательстве.
– Это он, Дюбель, убил Киселева. Он меня заставлял... требовал... Я только выходил в эфир. Шеф мне обещал жизнь, деньги, когда они придут сюда. Ведь немцы уже близко отсюда. И у Ленинграда, и кругом...
Лейтенант не выдерживает, перебивает болтовню радиста:
– Хватит! За семь серебреников продал фашистам всех и вся. И самого себя с потрохами, и нас, и корабль, и совесть, и Родину!
Рука Колотия тянется к карману реглана. Глаза предателя округляются, нижняя челюсть отвисает, скрюченные пальцы цепляются за воротник бушлата.
– Жи-и-ить! – истошно воет он.
Но ни животный вопль, ни рыдания, ни мольбы на коленях о сохранении жизни не действуют на моих товарищей. Они не хотят ни слушать, ни видеть предателя.
– В мешок и за борт!
Ему заламывают руки за спину, вяжут прочным морским узлом. Только запрещающий жест лейтенанта удерживает парней от прямого действия – исполнения единодушного приговора.
– Убрать! Закрыть в каюте механика! – распоряжается Колотий. – Свистунов – часовым! Возьмите пистолет.
Лейтенант указывает на лаз и кормовой отсек. Парни нехотя расступаются, пропуская уходящих. Вот стукнули задрайки двери, ведущей каютам, и в отсеке наступила могильная тишина. Никто не двигается с места, молчат – долго, тяжело. Ведь не было у нас никогда ничего подобного, даже не могли представить себе.
– На наше счастье, – нарушает, наконец, сдавившую нас тишину Колотий, внимательно разглядывая страницы маленькой записной книжки. – Да, на наше... Как он забыл ее в рубке? Видно, торопился дать сигнал «туда».
Лейтенант прячет для надежности записную книжку во внутренний карман кителя и добавляет, обведя нас теплым взглядом:
– Спасибо, друзья, что не дали двуликому Янусу совершить черное дело. Даже продажная вера в немецкого бога и фюрера ему не помогла. Ну, а внутренним содержанием книжки и ее владельцем займутся на базе те, кому это положено по штату. Заодно и его напарника по гнусным делам – этого Дюбеля, надеюсь, найдут хоть из-под земли и воздадут по заслугам за смерть настоящего Киселева.
– Вот и кончилась «система Мюллера», – презрительно цедит Вася Прошин, снова капитально устраиваясь в своем «кресле» в изгибе выхлопной труб. – Тридцать шесть раз пережевали и один раз выплюнули! Навсегда!
– Жевать такую гадость! Ну уж, увольте, – возражает Андрей Михайленко. – Акула – и та подавится!
Несмелая, горькая усмешка пробегает по еще не остывшим от гнева лицам парней. Но, зацепившись за остро сказанное слово, каждый теперь старается выговориться и тем разрядить напряжение нервов. За первой улыбкой приходит и легкий, как дуновение ветерка, смех.
– Вот и вывели моль: махорка помогла!
С каждой шуткой, с каждой минутой становится легче и свободнее дышать. Вместе с нами от души смеется и Колотий. Но вскоре, что-то вспомнив, смотрит на часы.
– Ого! Уже начало первого. Значит, баржу уже кончают разгружать. Скоро пойдем на базу.
В ответ грянуло «Ура!».
Обеспокоенные вахтенные на верхней палубе начинают стучать сапогами по крышке входного люка.
– А сейчас – сменить вахту! – и лейтенант Колотий первым идет наверх.
...Тьмы – как не бывало! В чистом морозном небе играют, переливаясь красками, неповторимые полярные сполохи. Захватывающе красивым был в свой час рождения первый день февраля 1942 года.
Источник: Северные конвои: исследования, воспоминания, документы / Поморский международный педагогический университет им. М.В. Ломоносова / сост. Супрун М.Н. – Москва : Андреевский флаг, 2000. – Выпуск 3. – 364 с.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Клевант – особое замковое устройство для соединения флагов с фалами, на которых они поднимаются.